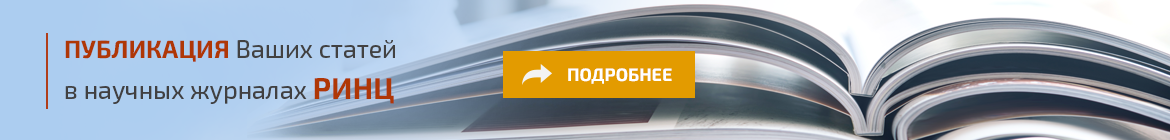Семантические славянизмы в поэтическом некрологе П.А. Вяземского "Памяти Авраама Сергеевича Норова" как отображение православного миросозерцания
Конференция: XVI Международная научно-практическая конференция «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология»
Секция: Русский язык

XVI Международная научно-практическая конференция «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология»
Семантические славянизмы в поэтическом некрологе П.А. Вяземского "Памяти Авраама Сергеевича Норова" как отображение православного миросозерцания
SEMANTIC SLAVICISMS IN THE POETIC OBITUARY OF P.A. VYAZEMSKY "IN MEMORY OF ABRAHAM SERGEYEVICH NOROV" AS A REFLECTION OF THE ORTHODOX WORLD OUTLOOK
Ekaterina Borodina
graduate student, Tver State University, Russia, Tver
Аннотация. Поэтический некролог П.А. Вяземского «Памяти Авраама Сергеевича Норова» рассматривается в статье как отображение православного миросозерцания его автора и одновременно как осмысление специфически христианских качеств покойного. В качестве инструмента исследования используются технологии лингвистической герменевтики, основывающиеся на сопоставлении секулярных и сакрально-религиозных значений и смыслов ключевых славянизмов.
Abstract. Poetic obituary of P.A. Vyazemsky "In memory of Abraham Sergeyevich Norov" is considered in the article as a reflection of the Orthodox worldview of its author and at the same time as a comprehension of the specifically Christian qualities of the deceased. As a research tool used technology of linguistic hermeneutics, based on a comparison of secular and sacred-religious meanings and meanings of key Slavs.
Ключевые слова: П.А. Вяземский; поэтический некролог; церковнославянизмы; лингвистическая герменевтика; идиостиль.
Keywords: P.A. Vyazemsky; poetic obituary; Church Slavicisms; linguistic hermeneutics; idiostyle.
Ю.М. Лотман отмечал, что для русского дворянства конца XVIII – начала XIX вв. «смерть была моментом, в котором пересекались христианские представления о бессмертии души и восходившие к античности, воспринятые государственной этикой идеи посмертной славы» [12, с. 211]. В некрологе как литературно-публицистическом жанре, приобретшем чрезвычайную популярность «со второй трети XIX по первое десятилетие XX века в России» [14, с. 83], в центре внимания также оказывались прежде всего зримые земные достижения покойного, составлявшие основу его посмертной славы в глазах людей. Поэтический некролог П.А. Вяземского «Памяти Авраама Сергеевича Норова» резко отличается от стереотипа тех лет (и еще в большей мере последующих), ориентированного на «исчисление заслуг», и тем самым выходит за границы погребально-панегирического пласта поэзии, оказываясь в более широких пределах филологической танатологии. В лаконичном определении объект филологической танатологии – «отображение “пути к смерти” в художественной литературе» [4, с. 32], смысл специфического мотивного комплекса – «личностное самоопределение перед лицом смерти» [3, с. 53]. В качестве инструмента исследования мотивного танатологического комплекса в данной работе используются технологии лингвистической герменевтики, основной материал – славянизмы как языковые единицы, совмещающие в себе секулярные и сакрально-религиозные содержания.
Поэтический некролог «Памяти Авраама Сергеевича Норова» (1869) открывается краткой эпитафией – закавыченной Вяземским заупокойной надписью «Он кроткой жизнью жил и умер смертью кроткой» (здесь и далее рассматриваемый поэтический некролог цитируется по: [5, т. 12, с. 402–406]; курсив в цитатах Вяземского мой. – Е. Б.), отражающей главное в жизни ушедшего. Дальнейший текст – пространный стихотворный некролог, посвященный памяти действительного тайного советника, в молодости участника Бородинского сражения, оставшегося без ноги, но, несмотря на это, дослужившегося впоследствии до звания полковника, сенатора и видного государственного деятеля, министра народного просвещения. С обиходно-«секулярной» точки зрения, может показаться странным, что в тексте Вяземского совсем мало о славном, даже героическом жизненном пути ушедшего из жизни адресата этого поэтического надгробного слова.
Какое отношение может иметь эпитет кроткий к характеристике славного жизненного пути А.С. Норова, если этот путь измерять строчками его послужного списка? Однако с позиций православного сознания смысл эпитета оказывается вполне ясным. По В.И. Далю, кроткий – «тихий, скромный, смиренный, любящий, снисходительный; не вспыльчивый, негневливый, многотерпеливый» [8, т. 2, с. 199]. Квазисинонимический ряд Даля можно обобщить существительным смирение как именованием главной христианский добродетели («сознание слабостей своих и недостатков, чувство сокрушенья, униженья; раскаяние; скромность» [Там же, т. 4, с. 235]). Становится ясным, что поэтический некролог Вяземского, как и открывающая его эпитафия, – о душе, о духовных совершенствах, а не о земных, преходящих достижениях ушедшего в мир иной человека. «Так объективное и субъективное делаются взаимопроницаемы <…> в эпитафии – познание смысла жизни, её истинной ценности, которая открывается лишь в смерти…» [2, с. 7]. Субъективное восприятие Вяземским ключевых особенностей личности ушедшего друга оказывается точным отображением тех объективных духовных христианских достоинств, в силу которых дарована была Аврааму Сергеевичу Норову, по молитве, «кончина мирная и непостыдная».
Общий пафос рассматриваемого поэтического некролога в точности соответствует святоотеческим наставлениям о приуготовлении христианина к смерти, как, например, в книге св. Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге»: «…говори чаще: как бы мне приготовиться к смерти по‑христиански: верой, добрыми делами и великодушным перенесением случающихся со мной бед и скорбей и встретить смерть без страха, мирно, непостыдно, не как грозный закон природы, но как отеческий зов бессмертного Отца Небесного, святого, блаженного, в страну вечности» [15, с. 613].
Но этот Небесный зов не все могут расслышать, – только люди определенного склада души. Покойному А.С. Норову, по Вяземскому, достаточно оказалось двух сторон души, двух пожизненных, выражаясь социологически, «ролевых позиций» – отрок и паломник: «Два чистые ключа, две страсти, два призванья, / Две радуги души на всех путях, во всем, / В нем отзывалися и оттенялись в нем. / В нем и паломник был, сын веры и молитвы, / И отрок пламенный, как в день народной битвы. / Сосуд, очищенный огнем Бородина, / Душа призванию осталася верна».
В семантике сущ. отрок сходятся два смысловых слоя: секулярный, отсылающий к представлениям только о возрасте («Высок. Мальчик-подросток» [13, с. 760]), и сакрально-религиозный, отсылающий к представлениям об ученичестве, которое может длиться вплоть до старости и смерти (церк.-слав. «сын, дитя, мальчик, отрок, юноша, ученик; служитель при князе или царе» [9, с. 397–398]). Христос сказал: «…истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное…» (Мф 18: 3). «Как дети» – значит с детским пожизненным доверием к вечному небесному Учителю. Соединение этих опорных значений в контексте Вяземского дает смысловое приращение ‘пламенная любовь к Родине’, превратившая душу Норова в «сосуд, очищенный огнем Бородина». Сосуд в данном случае – метафора, тоже совмещающая два смысловых слоя: очевидный секулярный и сакральный библейский ‘человек как вместилище духа’, ср. церковнославянские значения «орудие мышления <…> сосуд избрания – избранник» [Там же, с. 642] и евангельский фрагмент: «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами…» (Деян 9: 15). Семантика сущ. паломник у Вяземского фундируется пресуппозитивным идентификатором ‘странствие’, в секулярной проекции толкуется как «верующий человек, богомолец, странствующий по местам, считающимся святыми» (с характерным ограничительным конкретизатором ‘(местам), считающимся (святыми)’, в традиционной проекции – без такого конкретизатора, с акцентировкой пребывания в Палестине: «богомолец, калика, бывший на поклонении у гроба Господня» [8, т. 2, с. 13].
Метафора сосуда реализуется на пересечении поэтической семантики отрока и паломника: оба – сосуды Божии, различие во времени: от готовности наполняться – до некоей доступной сосуду полноты. В начале жизни (Бородино): «В дни отрочества он, паломник боевой, / В пыл битвы брошенный едва созревшей волей, / За Родину стоял на Бородинском поле / И, разом возмужав под ядрами в бою, / Ей в жертву он принес младую кровь свою», – в преддверии ее финала (Палестина): «В сей край паломник наш, как в отчий дом вступил; / Сей край он с юных лет заочно возлюбил, / К нему неслись его заветные стремленья; / Он изучал его в трудах долготерпенья, / Но глубже верою своей его постиг; / Она была ему вернейшая из книг».
Таким образом, именования отрок и паломник в контексте целого поэтического некролога выступают как лексико-семантические центры двух основных мотивов личностной посмертной характеристики А.С. Норова, которые можно обозначить как «детская чистота и доверчивость» и «путь от земного к небесному».
Мотив детской чистоты и доверчивости – вполне условное именование того качества личности, которое почти не поддается характеристике на секулярном языке, отражающем реальности земного существования, – качества, которое отображено в первой из данных Христом заповедей блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5: 3). Смысл словосочетания нищие духом – предмет многовековых интерпретационных усилий христианской экзегетики и мирской герменевтики, но вместе с тем – и поэтического осмысления. В качестве однословной замены словосочетания нищие духом Вяземский использует эпитет убогий – в специфически сакрально-религиозном контекстуальном смысле; в ряду «убогих» А.С. Норов оказывается вместе с многочисленной «братией убогой», «людьми Божьими» – людьми «из малого числа», способными хранить чистоту души и потому «зла не знать» и «злу не верить»:
«О помыслах других судил он по себе:
Обезоруженный он предстоял борьбе,
Где явный враг вредил иль недруг лицемерил,
Он зла в себе не знал и вчуже злу не верил.
Он был один из тех, из малого числа,
Которым жизнь вотще училищем была.
Быть может, с жалостью или с насмешкой строгой
Относится наш век к сей братии убогой,
К сим людям Божиим, смиренным и простым,
Дающимся в обман незлобием своим,
Но нужны на земле и эти Божьи люди,
Чтобы при них вольней дышали наши груди,
Чтоб мы в бою страстей могли на ком-нибудь
Душой усталою с любовью отдохнуть».
Заметим, что более прямолинейно контекстуальную синонимизацию нищие духом – убогие в целях интертекстуальной отсылки к евангельскому тексту использует Н.С. Гумилев, вольно пересказывая евангелиста Матфея, при этом существенно сужая и тем самым искажая смысл заповеди: «Христос сказал: “Убогие блаженны, / Завиден рок слепцов, калек и нищих, / Я их возьму в надзвездные селенья, / Я сделаю их рыцарями неба / И назову славнейшими из славных…”» («Отрывок») [7, с. 163].
Действительно, и в секулярных, и в церковнославянских толковых словарях прил. убогий в основных значениях – «увечный, с физическим недостатком» или «очень бедный; нищий», в более редком вторичном – «слишком простой, скромный, незатейливый на вид» [13, с. 1364] (например, о домике, комнатке и т. п.), «бедный, лишенный сил, больной» [9, с. 746]. Однако нищие духом – никак не убогие в этих ограничительных значениях. Семантика словоупотребления убогий у Вяземского значительно глубже и шире, чем у Гумилева, значительно ближе евангельскому первоисточнику, и если задаться целью интерпретировать это словоупотребление, то результат получается следующим: в контексте Вяземского эпитет убогий обретает расширительное значение, восходящее к христианскому пониманию смиренности и скромности как главных добродетелей.
Контекстуальная поэтическая семантика прилагательного (и соотносительного субстантивата) убогий в произведениях Вяземского на протяжении его творчества претерпевает показательные изменения.
В ранней элегии «Послание к <Жуковскому> в деревню» (1808), написанной в пасторальных тонах сентиментализма: «Когда от нас в слезах убогий уходил? / Когда гонимый в нас друзей не находил?» [6, с. 54]. Здесь убогий – в прямом значении, но, тем не менее, в христианском контексте милосердной заботы обеспеченных сельских жителей об обделенных судьбой странниках.
В шутливом стихотворении «Ухаб» (1818) убогий – ироничная характеристика жалкой участи человека, путешествующего по российским дорогам: «Тебя до места, друг убогий, / Достоинство не довезет: / Наедет случай – и с дороги / Как раз в ухаб тебя столкнет» [Там же, с. 113].
В поэтическом обращении «К мнимой счастливице» (1825) убогий – осененная легким налетом пейоративности оценка «жизни сей» (обыденной, будничной, земной): «Но силой ли души иль слепотой почесть, / Когда вы жизни сей, дарами столь убогой, / Надежды лучшие дерзаете принесть / На жертвенник обязанности строгой?» [Там же, с. 169].
Прямое, основное значение – в «дорожном» стихотворении «Степью» (июнь 1849): «С кровли аист долгоногой / Смотрит, верный домосед, – / Добрый друг семьи убогой, / Он хранит ее от бед» [Там же, с. 293].
В контексте пессимистической оценки достижений европейской цивилизации в стихотворении «Ночью на железной дороге между Прагою и Веною» (1853) убогий – уже характеристика собственной души, осмысляемой как малая, ничтожная, неприкаянная: «Приключись хоть смерть дорогой, / Умирай, а всё лети! / Не дадут душе убогой / С покаяньем отойти» [Там же, с. 311].
Аналогичная характеристика души – в стихотворении «Ферней» (1859), поэтическом воспоминании о Вольтере, некогда интеллектуальном кумире всех русских вольнодумцев, в том числе и Вяземского: «Но внешнего мира волненья и грозы, / Но суетной славы цветы и занозы, / Всю мелочь, всю горечь житейской тревоги, / Талантом богатый, покорством убогий, / С собой перенес он в свой тихий приют» [Там же, с. 359]. Поскольку покорство – контекстуальный синоним смирения, то получается, что Вяземскому, перешагнувшему за порог своего 60-летия, характер Вольтера видится как убогость души, бедной христианским смирением («покорством»), полоненной гордыней человеческого «я».
В стихотворении «Кладбище» (1864) – элегическая исповедальная автохарактеристика, в рамках которой в составе одного словосочетания встречаются сущ. паломник и прил. убогий: «Оплакавший земной дорогой / Любви утрату не одну, / Созревший опытностью строгой, / Паломник скорбный и убогой, / Люблю кладбища тишину» [Там же, с. 386]. Сочетание, сакрально-религиозный смысл которого отсылает к представлениям о духовном преображении, инициируемом кладбищенским ощущением собственной и всеобщей смертности.
Семантические компоненты ‘бедность’ и ‘смирение’ прил. убогий несет как органичное целое в стихотворении «Тихие равнины…» (1869?): «В рубище убогом / Мать – любви сыновней / Пред людьми и богом / Та же друг и мать» [Там же, с. 400].
Как видим, динамика словоупотреблений прил. убогий в творчестве Вяземского свидетельствует о последовательной семантической эволюции от секулярных – к сакрально-религиозным значениям и контекстуальным смыслам. Легкий налет пейоративности, характерный для ранних словоупотреблений, сменяется мелиоративным, обусловленным использованием прил. убогий в функции эпитета, отсылающего к представлениям о смирении как главной христианской добродетели.
Возвращаясь к некрологу «Памяти Авраама Сергеевича Норова», отметим, что в семантическом ассонансе с сакрально-религиозным прочтением семантики прил. убогий находится и сущ. помысел: смиренная «убогость» поминаемого усматривается Вяземским и в том, что «о помыслах других судил он по себе…». Секулярному значению сущ. помысел «мысль, намерение, замысел» [13, с. 918] соответствует существенно более широкий набор смыслов однокоренного синонимичного церковнославянского помышление: не только «размышление, обдумывание», но и «разум, душа» [9, с. 455]. Именно с этим расширительным прочтением мы имеем дело в данном случае: помысел – в контекстуальном смысле «строй души» – в сознании нравственного чистого человека включает в качестве неискоренимого представление о любом человеке как образе Божием, а следовательно – о существе высоком и чистом, строй души которого, его помыслы в глубине своей лишены злого начала.
Мотив пути от земного к небесному фундируется расширительной семантикой эпитета убогий – как маркера внутреннего смирения, начальной точки духовного восхождения от дольнего к горнему, наряду с сущ. паломник выводящим поэтический некролог Вяземского из погребально-панегирической мотивной стихии в жанр, близкий «поэтическому странствию». Исследователи справедливо отмечают, что поэтический некролог в жанрово-тематическом отношении может оказываться весьма разнообразным: «Отличаясь большой свободой выражения, некролог может вбирать в себя признаки других жанров: очерка, критической статьи, воспоминаний» [11, с. 92]. В своей центральной части рассматриваемый поэтический некролог выступает как историко-религиозный очерк: перед глазами паломника А.С. Норова («Двукратно зрел он край священной Палестины») зримая им здесь-и-сейчас Палестина предстает как живое свидетельство земной жизни Христа, длящейся посейчас: «Вот, кажется, грядет Неведомый земле / Со знаменем любви и скорби на челе. / Благословляет Он, и милует, и учит; / Он утешает тех, которых горе мучит…».
Так паломник А.С. Норов оказывается живым причастником вечно продолжающейся евангельской истории. В кодифицированном литературном (секулярном) русском языке сущ. причастник известно лишь как специфически церковное, ассоциирующееся с причастием как христианским таинством (ср.: «Причастник… Церк. Тот, кто готовится к обряду причастия или подвергается этому обряду» [13, с. 996]), но вне явной семантической связи с причастностью, трактуемой как «участие в чём-либо, касательство к чему-либо» [Там же]. Церковнославянское причастник, сохраняя, естественно, связь с причастием как таинством, вместе с тем используется и в более широком смысле: «участник, сообщник, товарищ» [1, т. 3, с. 332]. Именно в этом расширенном значении, которое можно интерпретировать как «приобщённость кому-чему-либо», используется данное существительное Вяземским для характеристики внутренней позиции Норова как паломника в Палестине: «Кто раз сподобился, о, Иерусалим, / Хоть мимоходом быть причастником твоим, / Кто умирительный твой воздух жадной грудью / Вдыхал, кто твоему молчанью и безлюдью / Сочувствовать умел и в этой тишине / С минувшим и с собой мог быть наедине, / Тот скажет…». Сущ. Иерусалим в данном контексте также выступает в расширенном значении: не только как топоним – «главный город Иудеи и всей вообще Палестины», но и как «Иерусалим новый, небесный» [9, с. 235]. Тем самым паломничество Норова в Иудею в глазах Вяземского – не только его живое знакомство с Землей Обетованной, но и прижизненное приобщение к Царствию Небесному, его открытие внутри самого себя, поскольку, по слову евангелиста, «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк 17: 21).
На этом пути паломник раскрывается как человек, движущийся от дольнего к горнему в своей собственной душе, в соответствии с двумя сторонами своего существа, словарно отображенными В.И. Далем в следующих толкованиях: «Человек плотской, мертвый, едва отличается от животного, в нем пригнетенный дух под спудом; человек чувственный, природный, признает лишь вещественное и закон гражданский, о вечности не помышляет, в искусе падает; человек духовный, по вере своей, в добре и истине; цель его – вечность, закон – совесть, в искусе побеждает; человек благодатный, постигает, по любви своей, веру и истину; цель его – царство Божие, закон – духовное чутье, искушенья он презирает. Это степени человечества, достигаемые всяким, по воле его» [8, т. 4, с. 588]. Последовательность приведенных далевских толкований отражает путь человеку к Христу и во Христе – тот путь, по которому шли и А.С. Норов, и написавший о нем поэтический некролог П.А. Вяземский.
Этот путь отражает ту глубинную особенность русского менталитета, о которой ярко и точно сказал выдающийся русский религиозный философ И.А. Ильин (1883–1954) в лекции, прочитанной им в годы эмиграции в Цюрихе: «Русская душа грезит неизбывной грёзой совершенства во Христе и с этой грёзой своей не расстаётся никогда. Пусть мечта эта ребяческая и простодушная – значит, душа становится по‑детски простодушной, находит в себе силы казаться придурковатой, принимать вид слабоумной, становиться жертвой злобы людской, если это неотвратимо. И кто эту склонность в расчёт не берёт и не понимает, тот опускает в России, в путях-дорогах её, в культуре нечто крайне существенное, так как в каждом истинно русском человеке, взятом в основе своей, спит или дремлет блаженное дитя – даже тогда, когда он не подозревает об этом или когда всю свою жизнь старается разбудить в себе это блаженное дитя, не дать ему заговорить» (цит. по: [10, с. 74]).
В качестве итога отметим: неслучайно поэтический некролог П.А. Вяземского «Памяти Авраама Сергеевича Норова» не вошел в советские издания его лирики как одного из признанных классиков «золотого века» русской поэзии; не соотносились глубокие христианские мотивы этого поэтического текста с расхожей советской трактовкой личности Вяземского как «салонного поэта», вольтерьянца и «вольнодумца», а его творчества – как демонстративно антирелигиозного, антихристианского. Некролог свидетельствует: детская воспламененность любовью к православной Отчизне родилась у А.С. Норова на Бородинском поле и не покидала его до конца, паломническая углубленность сформировалась в зрелые годы; биографический параллелизм с историей души Вяземского представляется несомненным. Современная эпоха, знаменующаяся духовно-религиозным возрождением нашей страны, взывает к исторической справедливости по отношению к этому замечательному поэту, глубоко чувствовавшему православную основу русского мировосприятия, хотя далеко не сразу – преимущественно на склоне лет к такому прочувствованию пришедшему.